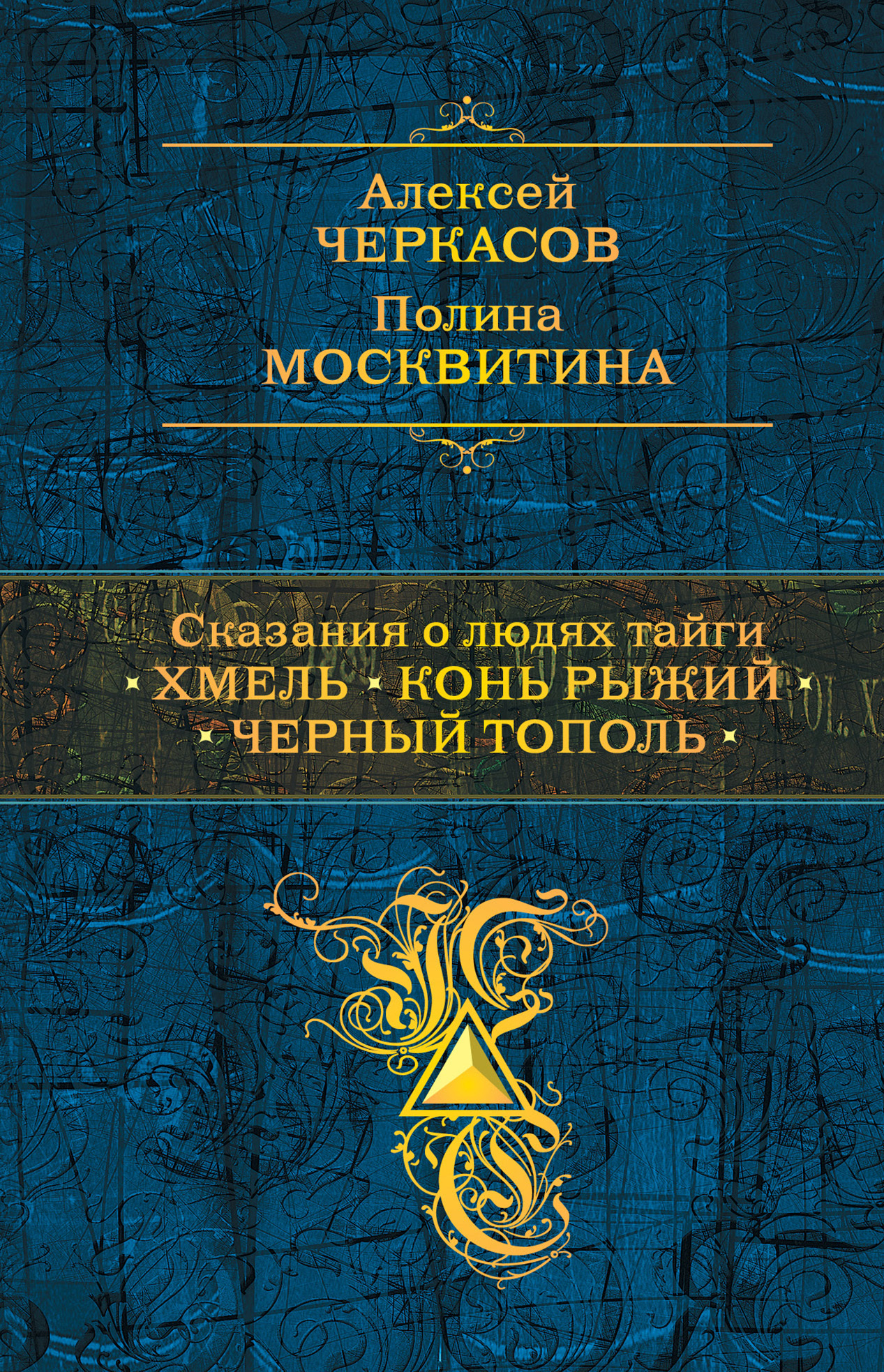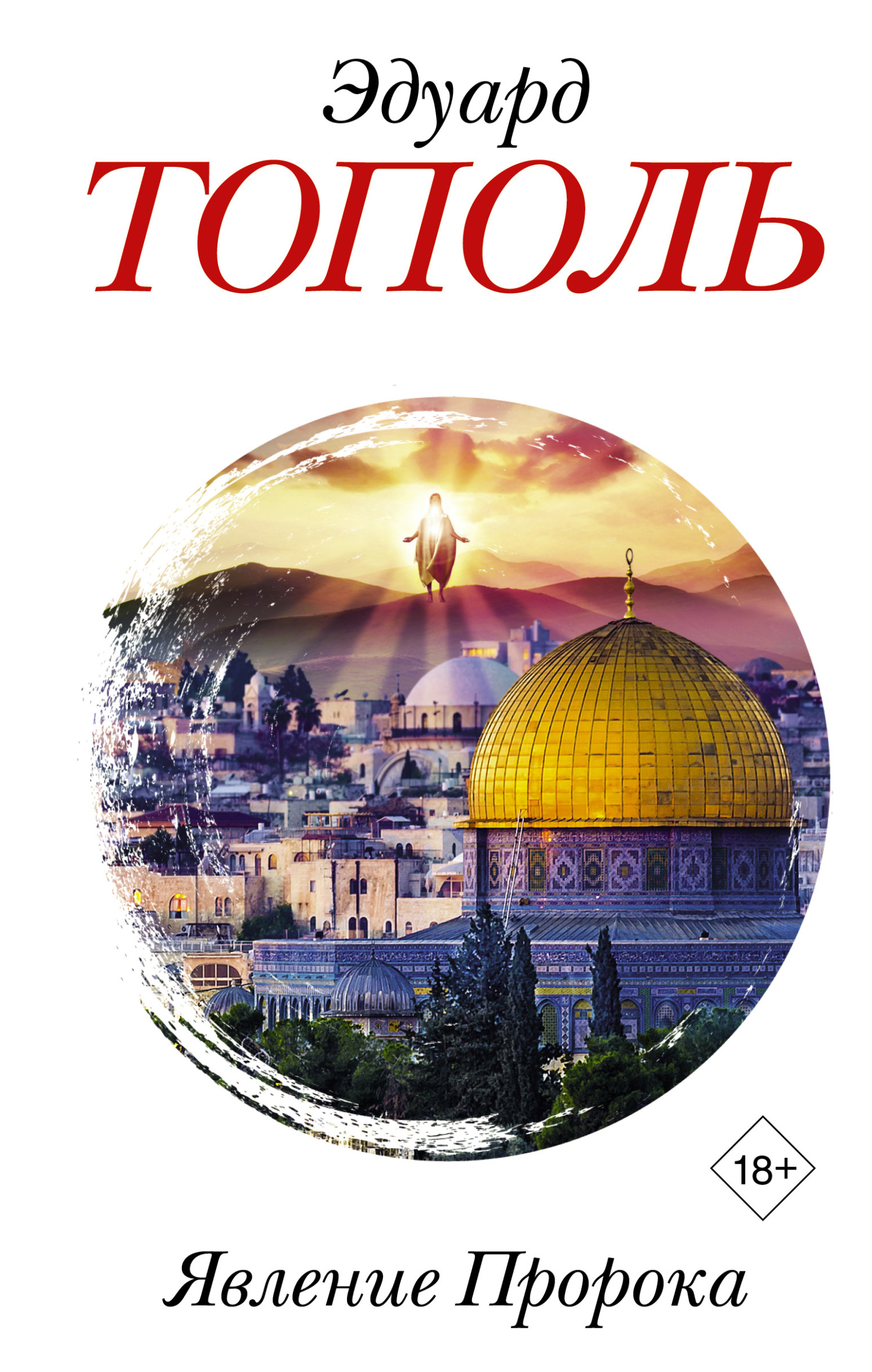Шрифт:
Закладка:
Я пугалась и малодушничала. Дался, думаю, городам тот телемост. Лучше бы с Ростовом пообщались. Или со Ставрополем. Все-таки у меня на Кубани семья, дети будущие. А телемост — вещь мимолетная, ненадежная. Закончится — изведут меня тут, как клопа-черепашку, вместе с будущими детьми. Красивая девушка пройдет мимо, а со свернутой шеей жить, как говорится…
В хуторе голосят индоутки, бабы носятся вдоль ерыков, расхристанные, продираются цапкой сквозь ровные грядки, начищают сияющие потолки и крахмалят напирники. Все-таки Путин по телевизору будет на них смотреть — стыдно.
Самая расхристанная из хуторских, породистая казачка, косая сажень в плечах, подлетает ко мне, голосит громче всех индоуток:
— Ты, шоли, тут атамануваешь, коррэспондэнтка?
— Ну, я командую, да.
— Объясни мне, будь ласка, нашо ты к Малеванному причепилась? Видкиля ты нас вообще нашла?
— Да по карте просто нашла.
— Шо ты бакы мне забываешь? — могучая женщина подозрительно щурит глаза, разглядывая мое лицо. Вдруг ее осеняет:
— Ты вирменка, чи шо?
— Ну да, армянка.
— Одны биды от оцых вирменев, — обреченно вздыхает казачка. — Пидэм до хаты, хоч горылочки выпьем по-людски, побалакаем.
Казачку звали Галюся. На базу у Галюси гуртом гоготали ленивые индюки, в дальнем теплом хлеву терлись розовыми боками подсвинки, черномазая кошка заглядывалась на подросших цыплят, а у хаты для красоты в старых шинах цвели последние в этом году георгины.
В ее низкой саманной мазанке с голубыми наличниками и утоптанным глиняным полом пахло сдобными паляницами — как во всех незабвенных мазанках колосистых кубанских степей.
У входа за тоненькой занавеской читались заботливые ряды трехлитровых баллонов, набитых солеными синенькими, фаршированными морквой, разноцветным болгарским перцем, острыми огурцами с укропом, мочеными бураками, арбузами, яблоками, компотами из красной и белой черешни, грушевым джемом и сладким вареньем из зеленых арбузных корок — все, для чего пронеслось, моргнув перелетными цаплями, потное и тягучее полевое казачье лето, которому — вот уж ажно ноябрь, а конца и краю нэ выдно.
Из вороха белоснежных перин вынырнула махонькая старушка в платочке, уставила на меня такой же, как у Галюси, подозрительный взгляд.
— Баба Павля, — представила Галюся.
— Павлина Полуэктовна, — строго поправила старушка, продолжая меня разглядывать.
— Звыняйтэ, мамо, — вздохнула могучей грудью Галюся и выскользнула за порог.
— Ты, я бачу, нэ казачка? — спросила меня баба Павля.
— Нет, почему же. Очень даже казачка. Тут родилась, — ответила я.
— Болдырка, чи шо?
— Не. Вирменка, — сдалась я.
— Ааа. Ну, це ще поганее, — приговорила баба Павля.
Галюся в этот момент выносила из погреба слюдяное домашнее сало, моченые яблоки и бутыль желтоватой горилки.
— Як с горылка, то и в аду нэ жарко! — справедливо заметила Галюся и тут же заголосила:
— Виду ты нам прынэсла, Марыиа, на вись билый свит! — Галюся налила, хлопнула и налила еще. — Та шо, всэ одно помырать.
— Никому нэ трэба помырать! — я тоже опрокинула стопку и собрала в кулак остатние знания ридной балачки. — Ты подывыся на это с другой стороны. Вам шо на хуторе трэба?
— Нишо нам нэ трэба! Всэ у нас е! — горячилась Галюся.
— Газу немае, — строго отрезала баба Павля, которая не отставала от нас по горилке.
— Звыняйтэ, мамо, — снова вздохнула могучая Галюся.
— О! Газ! Вот за газ и побалакаете с Прэзыдэнтом! — успокаивала я.
— А шо, за газ разрешат побалакать? — недоверчиво посмотрела Галюся.
— А хто жеж нам запрэтить? Мы жеж край особой судьбы! — увещевала я. — Шо вы кажете, Полуэктовна?
Баба Павля поправила свой крахмальный платочек, откусила бочок моченого яблочка, оценив, так ли Галюся солила, так ли мочила, подумала и сказала:
— Я кажу, пишлы как-то козаци в городе до тэатру. На Лэбэдынэ озэро. Сыдять, глядять. Сын грит: «А чого воны уси на цыпочках?» Батько отвечае: «Нэ знаю, сынку. Лэбэдив дюже много. Навэрно вэсь двор в говне».
Возразить Полуэктовне нам было нечего.
Переночевав на крахмальных перинах, взбитых мощной рукой сухонькой бабы Павли, я позвонила в города.
— Спрашивать будем про газ. Народ интересуется.
— Да хоть про нефть, — поразительно быстро согласились города. — Только чтобы не было никаких славословий в адрес губернатора. Нам такие пиар-акции в прямом эфире не нужны. Отвечаешь своим будущим!
Будущим, ага. Тут с настоящим бы разобраться.
— Ну вы что, тут народ простодушный, они и слов-то таких не знают «пиар-акция», — ответила я.
Жизнь показала, что, если и был кто в Казаче-Малеванном простодушный, так это Марина, коррэспондэнтка.
На крылечке бывшего клуба, заколоченного за ненадобностью, третий час я общалась с очередью желающих задать вопрос Президенту. Мне особенно приглянулась одна хуторянка, вежливая, приветливая, в меру щекастая, в меру румяная — телегеничная.
— Меня тоже, — говорит, — очень интересует проблема газоснабжения поселений.
Прослежу, чтобы встала рядом, ей и дам микрофон решила я.
Мы с ребятами остановились в халабуде районной гостиницы недалеко от Казаче-Малеванного — рыженький скрип кроватей с колючими детскими одеялками, да кому нужны одеяла, когда на улице жаркий ноябрь.
Вечером я устроила алаверды нашей Галюсе — в гостиничной забегаловке накрыла ей стол с жирной местной солянкой. Когда мы остались одни, Галюся мучительно призадумалась, как будто решая, говорить мне что-то или лучше не стоит. Решилась.
— Эта твоя, щокатая — нэ тутошняя. Шо-то вона мухлюэ.
— В смысле?
— Ты по-русски разумеешь, чи ни? Нэ бачила я ее на хуторе ныколы. Вона спецом тебя с понталыку сбивает. Вона губернатора будет хвалить. Вона с ним вась-вась. Задание у ней такое.
— Ты что! Если кто-то в эфире начнет хвалить губернатора, меня уволят!
— А ей шо? У ней задание.
— Но она единственная, кто по-русски говорит!
— Тю? А мы на яким с тобий учора балакали?
— Мы с тобой, Галюся, балакали на балачке. А вопросы президенту России надо задавать на русском.
— Тю. Так, а я усю жисть думала, шо энто и е русский. Ладно, — задумалась Галюся. — В Журавской одна деука е. Творчэский работник. Интэллигэнтна, шо твоя бугалтэрия!
— Тащи ее! — я разлила нам по стаканам еще перцовки.
Время за полночь. Я тихонько затягиваю душераздирающую песню, которую мама пела нам в детстве как колыбельную — о том, как казак зарубил топором свою жинку:
— Провожала матыыыы… сына у солдаты…
— Провожаааааала маты, сына у солдаты, молоду нивистку — в поле жито жаты! — с ходу подхватывает Галюся молодыми казачьими переливами, вольными и глубокими, как степная Кубань.
А наутро мы проснулись в другом краю.
Засветло, продирая глаза, мы грелись гостиничным завтраком — вчерашней вечерней солянкой и зеленым квашеным яблоком из подернутого плесневелой пленкой баллона. Удивлялись, чего это вдруг непривычно зябко с утра.
— А ну, открой
![Черные глаза [сборник 2020, худож. Т. В. Евсеева] - Маргарита Симоновна Симоньян](/uploads/posts/books/16089/16089.jpg)